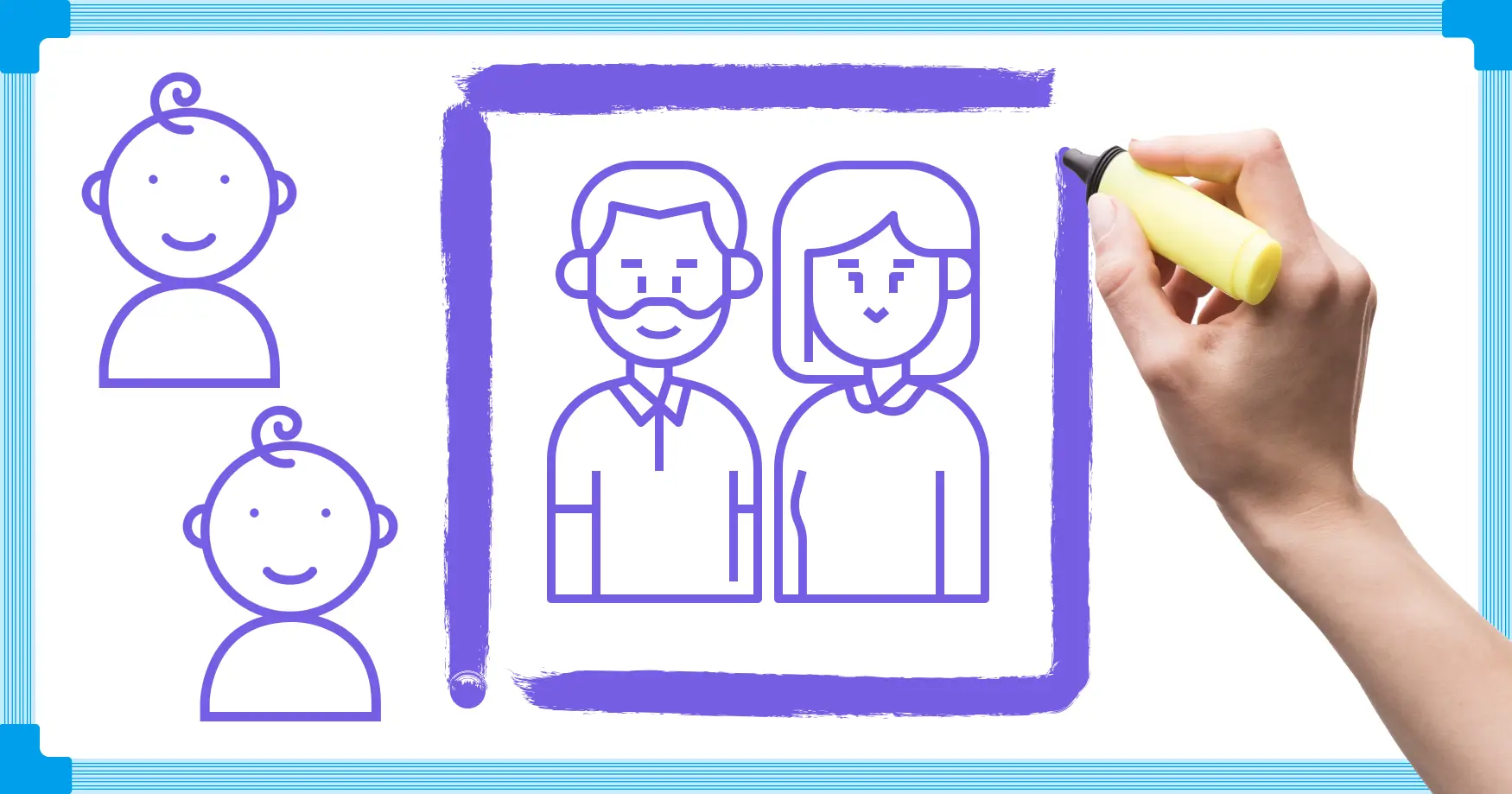Колонка про отношения между поколениями, сепарацию и страх беспомощности
Наши отношения с родителями со временем меняются: сначала мы безоговорочно им верим, а потом — видим, в чём они были неправы, где совершили ошибки в нашем воспитании, и думаем, что мы так, конечно же, не будем. Рано или поздно через подобные чувства пройдут уже и наши дети, а нам придётся дать им пространство и время для того, чтобы эти эмоции прожить.
Читательница ГМД-медиа, многодетная мать и педагог Галина Секацкая написала эссе, в котором рассказала о том, что помогло ей принять неидеальность своих родителей и посмотреть на отношения уже со своими детьми в перспективе.
Когда сериалы стали едва ли не досугом номер 1 для уставших родителей, многие влюбились в британское шоу «Сексуальное просвещение» от Netflix. Зрителям, особенно тем, у которых есть взрослеющие дети, было интересно наблюдать за тем, как современные подростки решают вопросы отношений.
Но четвёртый сезон лично я смотрела уже не ради того, чтобы наблюдать за детьми. Не давая ему какую-либо оценку, хочу зафиксировать смещение акцентов в моём восприятии: если в предыдущих сезонах я держала фокус на подростках, то на этот раз больше всего меня тронули истории их родителей, хотя они по-прежнему не были центральной частью сюжета.
Возможно, повлияло ещё и то, что один из личных диалогов обратил моё внимание на тему, о которой я раньше не задумывалась: повышение требований к родительству фрустрирует не только наше поколение.
Я часто встречала и разделяла идею о том, что нам, миллениалам и старшим зумерам, выпала тяжёлая роль: перемалывать жерновами психпросвета и рефлексии деструктивные автоматические реакции, унаследованные от родителей, чтобы автоматические реакции у наших детей стали ассертивными по умолчанию. То есть одни не напрягались (в этом конкретном смысле), потому что ещё не знали, как надо, а другие не будут напрягаться, потому что «как надо» в них уже заложено.
Бесконечный поток информации о психике, воспитании, развитии и выстраивании доверительных отношений с детьми действительно сложно перерабатывать и тут же, не отходя от кассы, применять. Нам тяжело от того, что это стало нашей обязанностью. Но знаете, ведь здорово, с другой стороны, что у нас есть такая возможность.
Опираясь чисто на свой субъективный опыт взросления, я думаю, что в динамике семейных отношений есть период родительского бессилия, когда у руля стоит уже выросший ребёнок и решает, куда всему этому плыть. И всё, что можно сделать со стороны, — это дуть в паруса, когда направление тебе нравится, а когда нет — «замирать», оставаясь доступным, и держать наготове заплатки для пробоин.
Я не знаю, каково (будет) находиться в этом периоде беспомощности моему поколению со всеми теми знаниями, которые у нас есть, и отношениями, в которых мы эти знания хуже ли, лучше ли, но успели применить.
Но вот, кажется, думающим людям постарше эта правда даётся нелегко. Они так же, как и мы, узнают сейчас, «как надо», но для них это уже не инструкция, а укор, источник вины и сожалений о том, что они не сделали.
И разделить им это особо не с кем: помощь специалистов стигматизирована и большинству материально и организационно недоступна (тут вам не здесь, как говорится, не в западном сериале живем), собственные родители жили вообще в другом мире, дети не обязаны быть опорами и контейнерами всех этих чувств, а партнеры вообще зачастую не понимают, в чём, собственно, проблема (потому что, давайте уж начистоту: рефлексирующих свой родительский опыт мужчин в старшем поколении ещё меньше, чем в нашем). И мы ещё тут такие красивые: знаем, где и как наши родители накосячили и рады им об этом сообщить.
Ладно, простите мне эту генерализацию — это, наверное, просто способ побороть неловкость, говоря о себе. Но давайте я всё же попробую дальше делать именно это.
Сейчас, когда отношения с мамой и папой у меня устаканились, я ретроспективно смотрю на пережитые бури и думаю, что настоящая сепарация у меня случилась тогда, когда я перестала внутренне требовать от родителей идеальности. В моем случае этому сильно поспособствовали некоторые обстоятельства.
Например, появление младших детей. Со старшим так не сработало, нет. С первым сыном я получила в комплекте только уверенность, что вот теперь я мать, знаю, как надо, и имею право оценивать других родителей, включая моих. И только с появлением дочери и второго сына стало понятно, что «не всё так однозначно».
Ещё очень сильно, и даже, пожалуй, больше всего повлиял мой второй муж. Во-первых, когда мы съехались и он резко стал родителем двух ещё недавно не знакомых ему детей (от моего первого брака), мы переговорили (и продолжаем разговаривать) бесконечное количество разговоров, в которых весь мой предыдущий материнский опыт постепенно приобретал огранку осмысления.
Во-вторых, отношение мужа к собственным родителям было заразительно здоровым. И в-третьих, но не по значимости, партнёр проявлял (и проявляет) уважение к моим родителям. Не согласие во всём с их взглядами и поступками, не податливость вмешательству в нашу с ним совместную жизнь, которое на первых порах по инерции случалось, а именно уважение к ним. Он не конкурировал за меня с моим еврейским папой (который как еврейская мама, только в квадрате), не мерился с ним любовью ко мне или от меня, не мерился влиянием.
Со вторым мужем я не чувствовала уязвимость в проявлениях любви к родителям и не чувствовала вины или тревоги, делясь чем-то негативным.
Наверное, так я и поняла, что в отношениях есть место совершенно разным чувствам, что папе с мамой не нужно быть идеальными, чтоб партнер признавал моё право на близость с ними, а мне не нужно выбирать между мужем и родителями, постоянно перед кем-то из них оправдываясь за свою любовь.
Видимо, и другая сторона это почувствовала, и всё между нами стало как-то очень ощутимо расслабляться и теплеть.
Думаю, свою роль сыграло также моё непрерывное социальное и психологическое самообразование. И, конечно, самое банальное — время. Но его понадобилось много — меня это, если честно, пугает.
Вот было детское отношение к родителям — идеализация и вера в их непререкаемый авторитет. Вот есть взрослое отношение — как к обычным, но очень близким людям со своей собственной жизнью. А где-то между — это ужасное минное поле: «Я уже вижу, что родители не идеальны, но ещё требую этого от них». Могли ли они как-то повлиять на то, чтобы я прошла через это быстрее? Вряд ли. Особенно если учесть, что они не идеальны.
Понимание этого факта заставляет меня чувствовать себя беспомощной перед собственным будущим материнским опытом. И что-то подсказывает мне, что волшебной таблетки от этой тревоги нет. Наверное, надо просто позволить ей быть частью моего неидеального родительского пути.